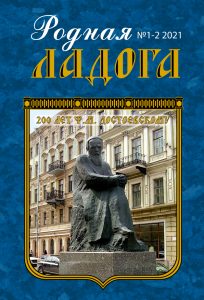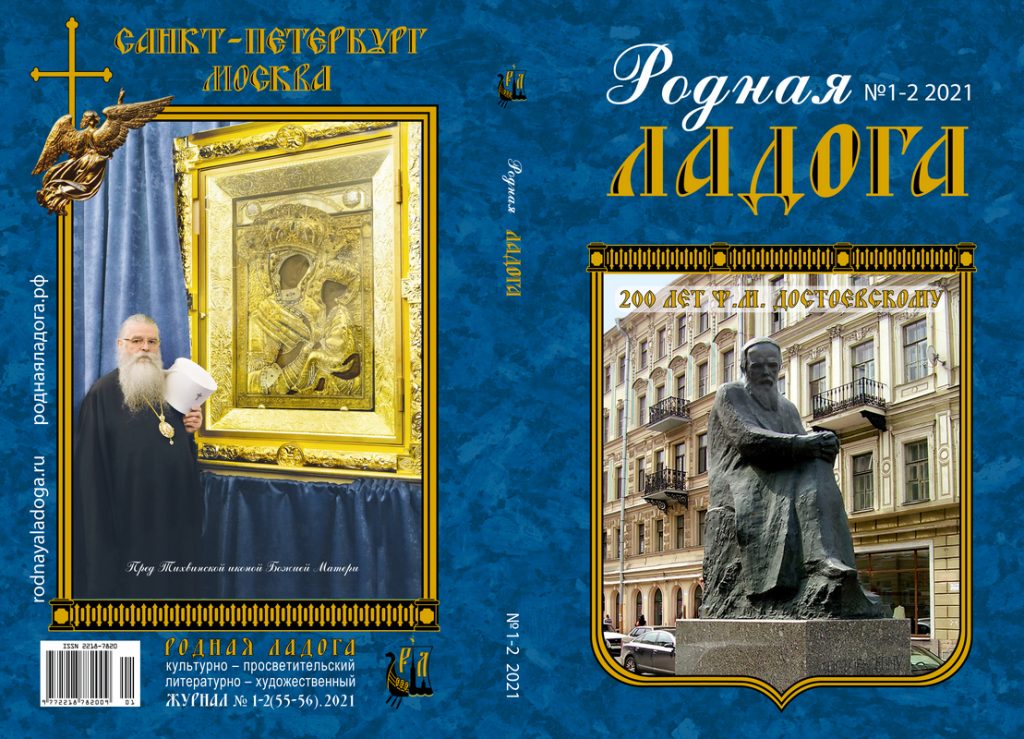|
Александр Казаков
Прозаик, поэт, член Союза писателей России.
Живет и работает в городе в Пскове.
подробнее>>> |
Прохожий на Млечном Пути
(рассказ)
В небольшой комнате дачного дома было тепло: оно исходило от недавно истопленной печи, но сегодня почему-то не создавало ощущения привычного комфорта и уюта. Как, впрочем, и во всю последнюю неделю. За окном неторопливо сгущались ранние августовские сумерки. Со стороны озера ощутимо тянуло прохладой; несмотря на преграду из высоких берёз и кустарника, буйно разросшихся на давно заброшенном соседском участке, она крадучись подбиралась к большой поляне перед домом Одинцова, незримо покрывая холодной росой траву, уже подросшую после недавнего покоса. Пройдёт ещё с полчаса — и здесь, на самом краю деревни, возле леса, стемнеет окончательно, и вот тогда-то и можно будет выйти из дома, чтобы присесть на ступеньку крыльца, выкурить последнюю на этот день сигарету — а может, и не одну — и полюбоваться на звёздные россыпи, какие бывают здесь только в августе. И больше — никогда…
Но это Одинцов сделает чуть позже, когда станет совсем темно, а пока он сидел, удобно расположившись в мягком низком кресле и вытянув ноги под стоявший перед ним журнальный столик, и бесцельно рассматривал то занавешенные лёгким ситцем полки с бельём, то печь, то стоящий на столике ноутбук, на матовой поверхности которого тускло отражался огонёк лампадки: Одинцов ещё утром затеплил её перед иконой Спасителя, что висела на стене над его головой, слева от окна, и теперь, в наступающих сумерках, этот ровный, нетрепетный огонёк ощутимо согревал его душу, не позволяя окончательно воцариться в ней той гулкой пустоте, которая всячески пыталась её заполнить — особенно в последние дни.
Это непонятное состояние Одинцова не на шутку тревожило. Причины он определить не мог, и потому всячески старался заполнить этот странный вакуум в груди чем-нибудь позитивным — хотя бы планами на завтра и воспоминаниями о дне сегодняшнем. Но у него ничего не получалось: планы почему-то не строились, а вспоминать было почти нечего. Ну, разве что послеобеденную рыбалку, хотя два небольших подлещика за три часа — какое же это воспоминание? Просидеть столько времени на причале, тупо глядя на недвижимый поплавок, — это что, рыбалка? Так, дурь. От нечего делать…
Впрочем, к подобным результатам Одинцов уже давно привык, хотя скажи ему кто-нибудь про подобные уловы ещё лет пять назад — ни за что не поверил бы. Раньше рыбалка на этом озере всегда была удачной — за редчайшими исключениями, связанными с перепадами давления, что в этих краях случалось не так уж и редко: в такие дни рыба просто-напросто переставала клевать, и поделать с этим ничего было нельзя — против чудачеств природы и неведомых рыбьих инстинктов не попрёшь. Но зато в другие дни, когда с погодой всё было в полном порядке, наловить рыбы можно было сколько душа пожелает. Одинцов помнил, с каким особенным удовольствием и даже с душевным трепетом выплывал он на лодке в озеро на утренних зорьках, когда над водой ещё стелился плотный вязкий туман, и уже после нескольких несильных гребков вёслами берег, густо заросший камышом, исчезал, растворялся в молочно-белом, липком тумане, а с ним — и всякие ориентиры, и выдержать нужное направление можно было только по стелящемуся за кормой следу на воде, причудливо вихрящемуся на недвижимой озёрной глади. Так Одинцов и плыл, неторопливо и бесшумно взмахивая вёслами, к излюбленному своему месту — к ближнему острову, возле которого так любил встречать рассвет, любуясь на поднимавшееся из-за острова солнышко, и где потом обычно и просиживал до той поры, покуда оно ни поднималось почти в зенит и ни начинало ощутимо припекать. Впрочем, к этому времени — часам к десяти — и рыба уже переставала клевать, да и наловлено её было уже более чем достаточно: хватало и на уху, и на большую сковороду, и на копчение. Одинцов чистил рыбу сразу после возвращения на берег, чтобы не заниматься этим на своём участке и не разводить там вездесущих настырных мух, падких на рыбью требуху; затем он промывал вычищенную рыбу в хрустально-чистой озёрной воде, складывал её в пакет или в ведро и возвращался на дачу.
И вдруг ему вспомнились строки, написанные им когда-то давно — теперь казалось, что в какие-то заповедные времена, — строки, родившиеся во время одной из таких предрассветных рыбалок, на пути к заветному острову…
Терпкий запах леса одурманил
Голову, отравленную городом…
Я плыву от берега в тумане,
Раздвоив его седую бороду.
Даже вёсла не скрипят в уключинах;
Деревенька скрылась вдалеке…
И в душе моей, такой измученной,
Чистота — росинкой на щеке…
Да, так всё и было. Город безжалостно высасывал из Одинцова силы — не столько физические, сколько духовные. Повседневная суета, на поверку часто оказывавшаяся бестолковой и бессмысленной, иссушивала его душу — почти до донышка. Потому с наступлением тепла, иногда уже в середине мая, Одинцов и удирал на дачу, а потом всеми правдами и неправдами старался раньше осени в город оттуда не возвращаться. И, если такое удавалось, был счастлив до щенячьего восторга. Но и расставание с любимой Буковкой в те годы всегда становилось для него тяжелейшим испытанием. Однако то было раньше, а теперь…
Теперь всё иначе, всё — не так. И он знал, почему… И почему ему больше не пишется — тоже понимал…
За окном совсем стемнело. Одинцов с неприязнью бросил взгляд на ноутбук, который за прошедшую неделю так ни разу и не открыл, выбрался из кресла, включил в комнате свет, почему-то вдруг больно резанувший глаза, и вышел в гостиную, а оттуда — на крыльцо. Спустившись по ступенькам, он пересёк участок, закрыл на щеколду ворота и вернулся к дому. Сел на ступеньку крыльца, прикурил сигарету и с наслаждением затянулся. И только после этого поднял глаза вверх…
— Сказка… — прошептал он, глядя на таинственно сверкающий звёздами Млечный путь. — Мир первозданный…
«А ведь об этом я уже когда-то писал, — подумал Одинцов. — И, говорят, неплохая повесть получилась… Господи, как давно это было!..».
И снова вдруг вспомнилось — из далёкой-далёкой юности — вот только сейчас вспомнилось, когда смотрел на бесконечную россыпь звёзд. Вспомнилось — и захлестнуло этим нежданным воспоминанием, как тёплой, ласковой, но в то же время и горько-солёной морской волной…
Давным-давно, ещё до армии, дружил он с одной девчонкой — из ближнего к Буковке райцентра, куда каждое лето приезжал на каникулы к своим родственникам. Немало вечеров после первого знакомства провели они вместе, сидя на качелях возле её дома и рассуждая на разные романтические темы. Потому что оба и были романтиками — пусть и сугубо книжными: оба много читали, и потому поговорить им было о чём. Ну, и целовались, конечно: как же без этого? И вот тогда-то, между разговорами и поцелуями, они и выбрали на небе звёздочку — одну на двоих, из всех видимых на Млечном Пути в ту необыкновенную, тихую августовскую ночь, — выбрали для себя, загадав, чтобы она светила им всегда, где бы они ни были — вместе или порознь. Чтобы помнить друг о друге вечно. Или — хотя бы — всю оставшуюся жизнь…
Одинцов вздохнул, тоскливо глядя на усеянное звёздами небо.
«Нет, не найти мне её теперь, — с грустью подумал он. — Даже приблизительно не помню… Потерял. А жаль…»
Теплота нежданного воспоминания, поначалу так сильно встревожившая его душу, стала понемногу таять, а потом и вовсе исчезла, заодно будто прихватив с собой из души и ещё что-то неосознаваемое, но не менее значимое. И в груди опять стало пусто и неуютно…
— Всю жизнь мы что-то теряем, — прошептал Одинцов. — И что-то, и кого-то… Находим — редко, а теряем… почти на каждом шагу…
Вот и любимую свою Буковку он теряет. Уже почти потерял… Да почти ли?
Да, раньше, ещё совсем недавно, деревенька была совсем другой. Потому, видимо, и получилась его первая книжка такой трогательной и в чём-то даже романтичной. Буковка с первого же его приезда сюда стала для Одинцова своеобразным волшебным ларцом, наполненным россыпями сюжетом и живых, неповторимых персонажей, — ларцом, из которого он черпал своё видение этого мира, своё восхищение им и великое чувство сопричастности ко всему тому, о чём писал. Поэтому и во многих своих последующих романах и повестях он ещё не раз возвращался и к этим благословенным местам, и к жившим здесь людям, многие из которых стали героями его книг. И именно поэтому каждую весну, собираясь на дачу, он был твёрдо убеждён, что очередное лето в Буковке станет для него столь же плодотворным, как и любое из предыдущих.
Поначалу всё именно так и было. Одинцов приезжал на дачу в конце весны, за пару дней основательно обустраивался, а потом вся его тамошняя жизнь начинала протекать по строго определённому распорядку, не нарушаемому им в течение многих лет. Каждый день до обеда он успевал переделать кучу самых разных дел: в первые годы обустраивал потрёпанный строительный вагончик, доставшийся ему от прежнего хозяина участка, потом пять лет строил дом, затем почти всё следующее лето пристраивал к нему просторную веранду, а напоследок соорудил перед ней широкую террасу, соединив ею входы в дом и на веранду. Террасу удалось сделать довольно широкой и хорошо защищённой от солнцепёка, и на ней вполне можно было поставить пару кресел, чтобы прекрасно провести вечер в неспешных разговорах с женой или друзьями…
Так Одинцов обычно трудился до обеда, а после него отправлялся на часок-другой на озеро — порыбачить и окунуться, если позволяла погода, а возвратившись домой и поужинав, усаживался за ноутбук и писал, часто засиживаясь за работой до рассвета. А когда погода портилась, и начинались затяжные дожди, и потому что-то там пилить-строгать-приколачивать становилось совсем не с руки, Одинцов встречал такие природные катаклизмы с искренней радостью, поскольку просиживать за ноутбуком можно было хоть круглые сутки, ни на что, кроме приготовления завтраков, обедов и ужинов, не отвлекаясь. И такое положение дел в действительности приносило весьма ощутимые результаты.
Однако в последние годы в этом распорядке дня что-то нарушилось: если время до обеда по-прежнему было занято разными хозяйственными делами, а после него — долгожданным походом на рыбалку, то по возвращении с озера настроение у Одинцова заметно портилось, и желания садиться за ноутбук почему-то уже не возникало…
Правда, иногда у него всё-таки получалось заставить себя сесть и написать что-то путное. Хотя бы какие-то намётки для рассказа, повести или романа, чтобы уже потом, вернувшись домой, в город, за долгие зимние вечера превратить эти намётки в полноценную, достойную вещь, за которую, как минимум, не было бы стыдно. Однако так было раньше, ещё года три — четыре назад, но не теперь. Теперь же заставить себя — совсем не получается, хоть ты тресни. Ничего в голову не приходит, кроме каких-то неясных отрывков не понять чего, навеянных ненароком подслушанными разговорами соседей-дачников, встречавшихся возле автолавки, дважды в неделю приезжавшей в Буковку. Вроде бы и промелькнёт в голове что-то похожее на завязку сюжета после таких встреч, но пока возвращается он, Одинцов, с покупками от автолавки до своего участка — всё это из головы куда-то исчезает, будто выветривается. И писать опять становится не о чем. Высасывать же сюжет из пальца и затем через силу, ломая внутреннее сопротивление, пытаться изложить его на бумаге или на мониторе ноутбука — пустая трата времени. Одинцов знал это наверняка, поскольку не раз за последние пару лет пытался действовать именно таким образом — по принципу: лишь бы начать, а там само пойдёт. Не шло. И не пойдёт. Сизифов труд.
Сколько начатых вещей по компьютерным папкам у него распихано — жуть… Начатых — и не оконченных. Таких, которые, как он всё отчётливее понимал, не будут дописаны уже никогда…
Умом Одинцов понимал, почему так происходит. Точнее сказать — уже произошло. Умом понимал, а душа и сердце этого понимания принимать не хотели. И вот это дисбаланс между разумом и душой тревожил его всё сильнее и сильнее. Понимал, но, вопреки происходящим в деревне событиям, надеялся, что всё ещё может как-то измениться; что каким-то невероятным образом вернётся в любимую его деревеньку та неповторимая благодать, безраздельно царившая в Буковке в прежние времена, когда он впервые, полтора десятка лет тому назад, приехал сюда; что вновь возвратится прежняя, незримо витавшая в пахнущем душистыми травами деревенском воздухе одухотворённость всего, что окружало его, Одинцова, ещё совсем недавно; вернётся всё то, что непреодолимо манило и тянуло его сюда — к этому величавому озеру, к этим берёзкам — то непередаваемое словами волшебство этих сказочных мест, дарившее ему истинное вдохновение, благодаря которому он и написал почти все свои книги…
Откуда-то со стороны озера, в клочья разрывая вечернюю тишину, загрохотала музыка, спрессовывая уже и без того почти непроглядную темноту низкими звуками бас-гитары и барабанов. Грохот почти мгновенно и многократно, наслаиваясь сам на себя, отразился от ближнего острова и, чуть позже, — от дальнего берега, превращая музыку в дикую какофонию, в ураган бессмысленных, перепутавшихся между собой звуков, способных, казалось, убить всё живое и ещё мыслящее на десятки километров вокруг.
«Началось! — с вдруг вспыхнувшей злостью подумал Одинцов. — Теперь — до полуночи. Как минимум…»
Он ткнул погасший окурок в консервную банку, приспособленную под пепельницу, и с раздражением полез в карман за новой сигаретой.
Нет, ничего он здесь больше не напишет. Ничего и никогда.
«Надо было со своими домой возвращаться, — подумал Одинцов, прикуривая от зажигалки. — Ведь знал же, что так будет — знал! На что надеялся?!»
Ещё неделю тому назад, как и почти всё лето по вечерам, здесь, в доме, всё было иначе: жена, сидя в соседней комнате или на веранде, читала какой-нибудь очередной детектив или решала кроссворды; внучка — рисовала или смотрела в мансарде мультики. Дача была наполнена жизнью — движением и близостью родных и дорогих сердцу Одинцова людей. И даже если все они в какие-то моменты, занятые каждый своим делом, и не общались между собой, и даже находились вне поля зрения друг друга, то всё равно близость родных Одинцова ощущал не только как внешний фактор, но и внутри себя. И на душе от этого было тепло и тихо-радостно.
Но в прошлые выходные жена с внучкой уехали домой, в город: отпуск и каникулы подходили к концу, и им пора было начинать готовиться: жене — к работе, внучке — к школе.
Одинцов втайне надеялся, что с их отъездом что-то изменится — пусть и на короткое время, всего на пару недель, оставшихся до конца лета, но исключительно в лучшую для него, Одинцова, сторону. Он, наконец-то, останется совсем один — в уютом, построенном собственными руками доме, и уже никто и ничто больше не сможет отвлечь его от любимого занятия — от дела, которое он считал не только важным и нужным, но и главным в своей жизни. Живи, человече, твори и радуйся!
Но покой этот — долгожданный, желанный и, наконец-то, обретённый Одинцовым — на поверку оказался совсем не таким, каким — хотя бы в мечтах — представлялся ему ещё неделю назад…
«Такой покой, пожалуй, ближе к слову «покойник», — невесело усмехнулся он. — Как на кладбище… А что, весьма соответствует, весьма…»
— Во-о-о-о-овка! Воло-о-о-о-одька! — перекрывая музыку, долетел с берега истошный женский крик. — Бабы, Вовку кто видел?
Женщине что-то с громким смехом и издёвкой ответили, и она ещё громче и истеричнее закричала:
— А ну, вылазь с воды, придурок! Вылазь немедля, скотина безрогая!
Одинцов поморщился от досады и опять полез в карман куртки за сигаретой.
Музыка на берегу вдруг оборвалась, и от внезапно наступившей тишины у Одинцова будто зазвенело в ушах. Он поднял глаза к небу и с тоской посмотрел на бескрайний и бесконечный Млечный Путь.
«Кто мы такие — в сравнении со всем этим? — подумал он. — Вот все мы — кто? Кем себя возомнили? Да никто. И звать нас — никак. Даже не муравьи — песчинки на океанском пляже… Смоет нас волнами времени — и никто оттуда, сверху, и не заметит. Если даже и есть кому…»
Он сидел на крыльце, изредка затягиваясь сладковатым сигаретным дымом, и пристально вглядывался в звёздное небо, будто пытаясь разглядеть среди звёзд чей-то призрачный лик…
«Уж скорее бы ночь, — устало подумал Одинцов. — Выкурить ещё сигаретку, посмотреть на небушко, потом помолиться — и спать. Спать, спать и спать. И чтобы ничего не снилось: просто провалиться в небытие — и всё… А завтра прямо с утра начинать собираться домой. Потому что…»
Потому что делать ему здесь больше нечего. А ещё потому, что прежней Буковки уже нет. Нет её, той деревеньки, которую он когда-то так беззаветно полюбил — всем сердцем полюбил, всей душой. Убили Буковку — убили. И никак иначе то, что за последние годы сделали с деревней, не назовёшь…
Была тихая, старинная, нешироко раскинувшаяся по берегу озера, в стороне от большака, русская деревенька — с немногочисленными тогда местными жителями, жившими по своим, почти патриархальным укладам. И дачники, в те времена тоже немногочисленные, волей или неволей под этот уклад как-то подстраивались — не потому, что их к этому кто-то принуждал, а просто, видимо, душой чувствовали и умом понимали, что нарушать эту благодать негоже. И не нарушали. Потому и вели себя достаточно тихо и скромно: во всяком случае, музыка по вечерам над озером не гремела, и пьяные, горлопаня во всю глотку кому что в голову взбредёт, по деревне до полуночи не шатались. А теперь только дурные песни да мат по всему берегу и слышится. И так — почти всё лето…
И домов за эти последние годы понастроили — плюнуть некуда. Да каких там домов — коттеджей, иных — аж со всеми городскими удобствами! Первые-то дачники, строившиеся в Буковке в прежние времена, вели себя куда скромнее: и дома строили неброские, и на квадроциклах по деревне не гоняли… Да и сама деревня по площади теперь увеличилась как минимум раз в пять, если не больше, а ещё и все поля в округе на участки поделены и колышками обозначены. И даже там, на дальнем конце прежней деревни, прежних её границ, где раньше был широкий выгон для скотины, теперь целых три улицы построены — от самого озера и до леса. Можно сказать, целый микрорайон.
Впрочем, и скотины в Буковке уже давно нет — ни коров, ни лошадей: всех повывели — за ненадобностью. Да и зачем корову держать, чтобы летом, как в былые времена, на её молоке деньги зарабатывать? Куда как проще и намного прибыльнее возле своего дома платную автостоянку организовать. Ведь большинство дачников не в саму Буковку отдыхать приезжают, а и на дальние острова, и на другой берег озера: там тоже деревни есть, до которых можно только по воде на моторке добраться, а дач в тех деревнях — не меряно. Посему машины свои все эти приезжие оставляют в Буковке — под присмотр местных жителей. И, само собой, не за спасибо. Словом, бизнес — он и в деревне бизнес.
И вот именно в этом-то и заключалось самое неприятное открытие, которое сделал для себя Одинцов: теперь и здесь, в деревне, деньги с каждым годом начинали играть всё более важную роль. Хотя и дураку понятно, что без них, без денег то есть, не проживёшь. Желание подзаработать лишнюю копеечку на дачниках, разумеется, у местных жителей было всегда, однако раньше оно было как-то завуалировано, не выставлялось напоказ; вроде как стеснялись люди даже намекнуть на необходимость платы за какую-то услугу или небольшую помощь. А среди самих дачников подобное и вообще не практиковалось. Одинцов те времена и те нравы отлично помнил. При необходимости к любому соседу можно было за помощью обратиться — например, чтобы стройматериалы помочь разгрузить или мешавшее строительству дерево на участке спилить. И помогали — просто так, за спасибо. И деньги никто друг другу за такую помощь не предлагал. Впрочем, никто не спрашивал. Одинцов и сам не раз так же помогал соседям — просто чтобы помочь. Да и как было не помочь, если кругом — почти одни пожилые люди, такие же, как и он сам. Ты не поможешь — и тебе потом вряд ли на помощь придут. Когда-то, помнится, это называлось взаимопомощью или взаимовыручкой, что по определению не предполагало каких-либо меркантильных интересов. Но постепенно эти понятия как-то исчезли — даже среди соседей и тамошних друзей-приятелей. Правда, не без исключений, хотя и редких.
Кроме всего прочего, некоторые из особо практичных дачников вовремя подсуетились, расширили свои участки и, кроме уже имевшихся на них собственных дач, понастроили ещё по одному-два дома, но уже не для себя, а для того, чтобы сдавать их на лето в аренду. И появились в ранее тихой и спокойной Буковке мини-турбазы — с твёрдыми расценками за проживание, причём — достаточно высокими. И не только за проживание, но и за сопутствующие услуги: баня, лодка, катер — на все эти удовольствия существовал свой тариф. И тоже — не маленький. Один из таких дачников даже огромный пруд на своём участке выкопал и карасей туда запустил — для платной рыбалки. И это — всего в полусотне метров от озера! Цирк…
Ну, а найти клиентов для отдыха на таких мини-турбазах вообще не составляло никакого труда: интернет — весьма и весьма эффективное средство для рекламы. Поэтому если раньше отдыхать в Буковку приезжали исключительно те, у кого там имелись свои дачи, то теперь сюда приезжали все, кому не лень. И кому, разумеется, позволяли финансы. А таких оказалось настолько много, что у хозяев этих мини-гостиниц лето было расписано загодя — с ранней весны и до поздней осени.
В общем, много разного народа повадилось в Буковку ездить. На взгляд Одинцова — слишком много. И что самое неприятное, многие из таких временных отдыхающих — в разительном отличии от коренных дачников и местных жителей — относились к деревне не как к чему-то родному, что непременно стоило оберегать и лелеять, а исключительно потребительски. Проще говоря, приехали, накупались, наорались, напьянствовались, нагадили — и привет!
А если ко всему этому безобразию присовокупить ещё и частное предприятие по разведению форели, недавно появившееся в акватории заповедного озера неподалёку от деревни, то теперь уже можно было смело говорить о катастрофе не только для Буковки, но и для всего озера: форель там разводили в огромных садках, но время от времени она из этих садков каким-то образом вырывалась на волю — в просторы озера, где безжалостно сжирала всё, что попадалось ей на глаза. Потому местной рыбы в озере за годы существования форелевого хозяйства заметно поубавилось. Причём — очень заметно. Вот поэтому-то Одинцов теперь и ходил на берег не столько ради рыбалки, а просто для того, чтобы — как выражались местные рыбаки — на поплавок посмотреть. В общем, тоска зелёная, а не рыбалка.
Ну, и о чём теперь прикажете ему писать? Про весь этот дикий бардак, в который превратили деревню?
Наверное, именно поэтому Одинцов в последние два-три года стал замечать, что уезжает отсюда без особого сожаления, хотя прежде он всячески старался оттянуть день отъезда до последнего предела. И вот это — отсутствие сожаления о предстоящем и скором расставании — было уже по-настоящему страшно, ибо исподволь закрадывалась в голову Одинцова ещё более неприемлемая для него мысль: а захочется ли ему ехать сюда в следующем году?
«Убили мою Буковку — убили, — вновь подумал Одинцов, с усилием растирая вдруг защемившую грудь. — Растоптали — безжалостно и… глупо: ведь ничего уже не вернёшь — вот что омерзительно. Вот что сделали с людьми… нормальными раньше людьми… деньги. Да будь они прокляты!»
Иногда он даже стал подумывать о том, чтобы продать дачу в Буковке и перебраться в какое-нибудь другое место, гораздо более тихое, — в какую-нибудь совсем уж глухую, полу-заброшенную деревню. Или даже в совсем заброшенную. И пусть там и озера никакого рядом не будет — да и Бог с ним, с озером! Но лишь бы гарантированно отгородиться от подобного нынешнему шума-гама и прочей шелухи и мерзости, узаконенной в Буковке новоявленными деревенскими бизнесменами и их ненормальными клиентами. Подальше бы от всего этого бардака — подальше!
Однако озвучить такое предложение своей семье Одинцов не решался. И понимал, что уже не решится, поскольку ни здоровья, ни сил для того, чтобы заново строиться на новом месте, у него уже не осталось. Да и взяться им на седьмом десятке уже неоткуда. Впрочем, как и времени. Всё, как говорится, поезд ушёл…
И вдруг почему-то вспомнилась ему недавняя, по весне, встреча в библиотеке с читателями — одна из немногих, на которые он ещё соглашался. Как ни странно, деталей той встречи Одинцов не помнил — всё прошло как обычно, как всегда, — но последний из заданных ему вопросов, тоже ставший уже почти традиционным, отчего-то запомнился отчётливо. Может быть, потому, что задал его нескладный с виду, рыжеволосый парень в очках с толстыми стёклами, сидевший в последнем ряду небольшого читального зала и всё время что-то писавший в толстой тетради, которую держал на уровне глаз, прямо перед собой.
— А над чем вы работаете сейчас? — спросил он, на секунду бросив взгляд на Одинцова поверх тетради.
— Над новым романом, — не моргнув глазом, соврал Одинцов.
— А о чём он будет? — спросил парень.
— Ну, в общем… — запнулся Одинцов. — … о жизни…
Парень кивнул и больше вопросов не задавал. Как, впрочем, и никто другой.
«О жизни… — усмехнулся Одинцов, поморщившись от вновь заревевшей на берегу музыки. — О какой жизни? Об этой, что ли?»
Да ни над чем он не работает. Не может. И хотел бы, да не может. Не получается.
«Почти как в старом анекдоте про импотента… — подумал Одинцов, стряхивая пепел на траву. — Не о чем мне писать — вот и весь ответ…»
Он глубоко и жадно затянулся и вдруг вновь почувствовал ноющую боль в груди. Ткнул окурок в банку и вновь поднял глаза к небу.
Да и для кого писать? Кто теперь книги-то читает? Почти все, от мала до велика, в интернете с утра до вечера торчат — как приклеенные. И, в основном, не литературой там интересуются, а в соцсетях зависают — в переписке с кем попало и ни о чём… Хотя чиновные оптимисты от литературы, забыв, видимо, снять розовые очки, с пеной у рта доказывают, что молодёжь в библиотеки нынче чуть ли не валом валит. А, стало быть, и читает. Ну, что валит — такого лично Одинцову наблюдать не приходилось, а что иногда заходит — да, бывает. Точнее, забегбет. Но чаще — из-под палки. И берут только то, что в школе задали. И не более того. Бывая в библиотеках, Одинцов и сам это примечал, и из разговоров с библиотекарями знал. А иных, кто по своей воле и по собственному интересу за книгами туда приходят, — единицы. На пальцах пересчитать можно. Так для кого писать?
А ведь ещё совсем недавно он думал совсем иначе. Потому, наверное, и писал с таким воодушевлением. Бывало, по десять-двенадцать часов кряду по клавиатуре выстукивал, часто и до рассвета засиживался. Кстати, таким вот каторжным трудом и глаза испортил — почти напрочь: пришлось делать операции, хрусталики менять. Вот как раз с тех самых пор, когда зрение начал терять, и стала наполняться его копилка из недописанных вещей. Наполнялась, наполнялась… пока через край высыпаться ни начало. Когда же после операций он снова видеть стал, и появилась возможность работать, то взялся, было, эту свою копилку перетряхивать, решая, с чего бы из отложенного начать, но вдруг оказалось, что и не с чего. Нет, были, разумеется, и сюжеты интересные, и целые главы, написанные даже очень неплохо, но… Но душа к ним, то есть к продолжению когда-то начатого, уже не лежала. Если честно, остыла душа. И интерес куда-то пропал. А заставлять себя дописывать — не получалось, хотя и пытался. Но так ничего и не получилось. И, судя по всему, уже не получится…
— Всё, батенька, — усмехнулся Одинцов, — отыгрался хрен на скрипке…
Он вздохнул и опять полез в карман за сигаретой…
И вдруг ему отчётливо вспомнилось предисловие к одной из незаконченных им книг. Точнее сказать, преамбула. Настолько отчётливо, что у него даже дыхание перехватило. И вспомнилось, что за ту книгу он принимался с каким-то особенным благоговением, с невероятным воодушевлением. И было это где-то через месяц после того, как его, Одинцова, буквально вытащили с того света после второго инфаркта, и он только что вернулся домой из санатория. Да, всё правильно — так и было: именно тогда он решил рассказать о людях, с которыми ему довелось повстречаться на своём, как это принято говорить, долгом жизненном пути. Уже достаточно долгом — увы… О людях, которых он помнил всю свою жизнь, которых любил, о тех, кто ему когда-то и в чём-то помог — пусть совсем немного, всего чуть-чуть, но именно это-то чуть-чуть иногда круто, даже кардинально изменяло его жизнь, направляя её в совершенно другое русло…
Книга была задумана им не как единое художественное произведение, а как своеобразные воспоминания, состоящие из отдельных эпизодов из жизни Одинцова — с самого раннего его детства и до самых последних по времени ярких и значимых событий. Причём все эти эпизоды, по замыслу Одинцова, должны были располагаться в книге не в строго хронологической последовательности, а по какому-то другому принципу, сформулировать который как-то более чётко и определённо он тогда так до конца и не смог. Просто писал то, о чём вдруг вспоминалось, а потом, когда таких эпизодов накапливалось несколько, интуитивно расставлял их в той последовательности, в которой — опять же интуитивно — почему-то считал наиболее целесообразным. Более того, эпизоды из реальной жизни Одинцов, как ему казалось, вполне уместно чередовал и с некоторыми своими размышлениями о ней, и даже с особенно запомнившимися ему удивительными, почему-то казавшихся Одинцову пророческими снами.
И ведь получалась книга-то — получалась!
«А предисловие к ней… как же я там написал? — встрепенулся Одинцов, вдруг почувствовав необыкновенный, давно не испытываемый им всплеск вдохновения. — Вот оно — вот! Сейчас посмотрю! Сейчас! А вдруг сдвинется? Вдруг пойдёт?!»
Он рывком поднялся со ступеньки, резко развернулся и рванул на себя ведущую в дом дверь. И вдруг ощутил жгучую, пронзающую боль в сердце…
«Вот… как не вовремя… — мелькнула страшная мысль. — Как же я так… а? Нельзя ведь мне так… нельзя… Забыл, брат…»
В глазах у Одинцова потемнело, дыхание перехватило, и он, стараясь не упасть, ухватился рукой за косяк двери и стал медленно сползать на дощатый пол террасы.
«Что… всё? — отрешённо подумал он. — Так неожиданно… и так просто…»
Прислонившись к дверному косяку спиной, он несколько минут сидел на полу, прислушиваясь к себе, потом осторожно перевёл дыхание, поднял глаза к небу, усеянному мириадами звёзд, и через силу улыбнулся.
«Мигаете… холодные… — подумал он. — А я вот… Ну, на всё Божья воля…»
С озера подул лёгкий, почти незаметный ветерок; он едва слышно зашелестел листьями растущих возле дома берёз, уже начинавших желтеть и понемногу ронявших отжившие свой короткий век листья. Его прохлада освежила лицо Одинцова и проникла в его лёгкие, чуть остудив разгорячённое сердце и немного уняв его бешеный, отдававшийся звоном в голове ритм.
— Господи, спаси и сохрани… — прошептал Одинцов, не отрывая взгляда от мерно мерцавших звёзд. — На всё Святая Воля Твоя, Господи…
Дыхание постепенно пришло в норму, боль в сердце немного утихла, хотя её отголоски теперь переместились куда-то за грудину. Посидев ещё пару минут, Одинцов, цепляясь за дверной косяк, осторожно поднялся на ноги и, опираясь на стену, мелкими шажками добрался до кресла под иконой, перед которой теплилась лампадка. Так же осторожно, стараясь не делать лишних движений, он опустился в кресло, перевёл дыхание и, с трудом протянув руку, включил ноутбук. Дождавшись, когда засветится монитор, он отыскал на нём нужную папку и навёл на неё курсор «мышки». Папка открылась как-то очень уж быстро, а может, Одинцову это просто показалось. Нужный файл тоже открылся сразу, и Одинцов прочёл набранное крупным шрифтом название книги — «Я, прохожий…»
«Вот именно — прохожий, — подумал он — подумал с грустью и какой-то невнятной, необъяснимой обидой. — Прохожий… Прошёл по этому миру — и всё…»
Строки виделись чётко и ясно — так чётко и ясно, что Одинцову даже не понадобилось надевать очки, чтобы прочесть написанное им годы назад. Он перевёл дыхание и начал медленно, вдумываясь в каждое слово, читать…
«Воспоминания — это вольный или невольный экскурс в прошлое, давнее или не столь отдалённое. И даже совсем маленькому человечку, только-только сделавшему свои первые в жизни самостоятельные шаги, без всякого сомнения, уже есть, о чём вспоминать…
Но чем старше становишься, тем всё более объёмным становится и багаж воспоминаний. Порой — и часто совсем некстати — вспоминается что-то такое, о чём хотелось бы забыть, причём раз и навсегда. Но не забывается…
И никуда нам от этого не деться — ни от памяти нашей, ни от нашего прошлого, каким бы, радостным или горьким, оно ни было. Наверное, мы и живём-то только благодаря тому, что память наша бережно — и порой против нашего желания, нашей воли — хранит в себе и наши собственные, и чужие ошибки, на которых нам когда-то как раз и пришлось учиться жить. Или выживать. Прошлое с нами всегда; от него не скрыться и не спрятаться, и если даже мы каким-то образом умудряемся, как нам кажется, стереть из своей памяти нечто тревожащее, или постыдное, или ненавистное, что когда-то давным-давно произошло, случилось с нами, что намертво застряло в памяти, как оставшиеся после давно окончившейся войны осколок или пуля, то в сердце воспоминания о прошлом всё равно останутся — останутся навсегда, до самой последней минуты, до последнего вздоха. И покинут они его только тогда, когда оно остановится…
Но, как бы там ни было, в любом случае хорошо, когда человеку есть что вспомнить: наверное, гораздо хуже, когда, стоя у последней черты и оглядываясь назад, на прожитую жизнь, вспомнить ему бывает особенно и нечего; так, прошла жизнь — и… и ничего особенного в ней не было. Это, должно быть, тяжело — не найти в прожитой жизни ничего такого, что отозвалось бы в сердце либо радостью, либо светлой печалью, либо ещё чем-то таким, что заставило бы его забиться сильнее, чем обычно, а самого человека затаённо улыбнуться — улыбнуться чему-то, одному ему ведомому…
Я говорю «должно быть, тяжело», потому что меня это, слава Богу, не касается: я за прожитые мной годы видел и пережил многое; может, и не намного больше, чем мои ровесники, но уж никак не меньше. И мне есть что вспомнить, и вспомнить не только с радостью или со светлой печалью, но и с болью, и с горечью, и с глубоким сожалением. И я не только не могу, но и не хочу вычёркивать из своей памяти ничего — как бы ни больно, как бы ни тяжело мне было об этом вспоминать, тревожа свою память и докапываясь до самых дальних, самых потаённых её уголков.
Вот потому и решил я начать эту книгу — книгу моей памяти, собирая в ней то, что с каждым годом отдаляется от меня, всё дальше и дальше уходя вглубь времени. Большую половину своей жизни, как ни печально это сознавать, я уже прожил, и только Господу Богу ведомо, сколько ещё осталось ходить мне по этой земле, дышать её воздухом, слушать пение птах и любоваться рассветами и закатами над так полюбившимся мне озером на древней новгородской земле. И не суть важно, заинтересует кого-либо эта моя книга или нет (если она вообще когда-нибудь будет издана): по крайней мере, я хотя бы попытаюсь собрать в ней те самые камни, которые почти всю свою жизнь так бездумно разбрасывал…
В этом месте я позволю себе сделать небольшое пояснение к тому, о чём речь пойдёт чуть ниже…
Это было во дворе хосписа, в самом конце весны, когда всё вокруг уже покрылось свежей зеленью, и вовсю пригревало майское солнце, и будто бы сама природа, расцветая в преддверии грядущего лета, звала к жизни. Теперь уже не припомню, по каким именно делам я оказался в том месте и в то время — только помню, что сидел в машине и кого-то ждал. А неподалёку от меня, на скамейке тихого больничного сквера, под могучими липами, сидели две пожилые женщины в больничных халатах и о чём-то неторопливо беседовали. Я хорошо знал, какого рода больных направляют в подобные заведения, дорога из которых заведомо ведёт лишь в одну, определённую сторону. Думаю, знали это и сидевшие на скамейке женщины — не могли не знать… Но на их лицах не было скорби или страха — наоборот, они светились каким-то необыкновенным умиротворением, будто эти женщины уже знали нечто такое, чего мне, тогда ещё достаточно молодому человеку, знать было не дано… И я прекрасно помню вдруг пришедшее ко мне чёткое и ясное, словно написанное яркими солнечными лучами на серой стене хосписа, понимание, что смерти нет. Как будто всё именно так и было: кто-то на мгновение высветил прямо передо мной на стене хосписа надпись: «СМЕРТИ НЕТ!» Именно для меня высветил, а не для кого-то другого. И не для сидевших на скамейке женщин, ибо они-то это уже знали…
Но я, признаюсь, к подобному тогда был ещё совершенно не готов.
Теперь же, спустя много лет, лиц тех женщин я не помню, но ту «вспышку» на стене почему-то запомнил навсегда… Или мне всё это почудилось?
С того дня, как я уже сказал, минуло немало лет. И вот совсем недавно мне приснился удивительный сон; вернее, не сон, а как бы размышления во сне — о жизни, о том, что она когда-нибудь неизбежно закончится, и мне, волей или неволей, придётся с ней распрощаться и шагнуть за черту, за которой… И вот тут-то будто кто-то снова, как и тогда, во дворе хосписа, вдруг дал мне понять, что умереть — это вовсе не страшно. Горестно, обидно — да, но не страшно. Потому что потом, после смерти, тому, кто хотел и мог бы сделать ещё что-то доброе и полезное для других людей, но по каким-то причинам сделать этого не успел, обязательно будет дана возможность завершить недоделанные дела. А может быть, и начать другие… В этом удивительном сне-размышлении я будто бы медленно, как на воздушном шаре, пролетал над землёй, постепенно понимаясь всё выше и выше, а подо мной в величественном безмолвии неспешно проплывали бескрайние леса, перелески, реки, озёра, маленькие деревеньки; я смотрел с высоты на эту землю с чувством светло-печального умиротворения, отчётливо понимая, что вот именно сейчас, в эти минуты, прощаюсь с этим прекрасным миром — с тем миром, который я успел за свою настоящую, нынешнюю мою земную жизнь увидеть, узнать и всей душой полюбить. Но ни страха, ни горести в моей душе не было, ибо словно кто-то в эти же самые минуты внушал мне, что это — не конец, и что не стоит сожалеть о том, что я не успел доделать всего, что мог и должен был сделать; будто бы кто-то успокаивал меня тем, что всё, что сделать в этой моей жизни мне было не суждено, я ещё смогу сделать потом, в другой жизни, которая обязательно будет мне дана. И мне не стоит печалиться о том, что я не успел пройти по всей моей земле, ибо и такая возможность у меня обязательно будет — возможность пройти сотни, тысячи вёрст по моей России, проплыть по всем её рекам — от истока до устья каждой из них, заглянуть в её самые потаённые уголки, зайти в каждый деревенский дом, чтобы узнать, какие люди, с какими судьбами, с какими надеждами, радостями и горестями живут в этих домах, пожить с ними их жизнью, а потом рассказать о них всему миру в книгах, написать которых мне предстоит ещё много-много.
Я — человек православного исповедания, и мне, видимо, негоже и даже грешно мыслить о многократности человеческого бытия. Но, несмотря на это, я почему-то верю — и хочу верить! — в то, что такой сон-размышление, как и мысли, пришедшие однажды в мою голову во дворе хосписа, были ниспосланы мне неспроста. Ибо всё на этой земле творится лишь по Божьей Воле. И никак иначе.
В этой книжке я хочу собрать по крупинкам всё то, чего никто, кроме меня, не видел так, как это видел я; то, что я пережил в своей жизни и вместе со своей страной, которую я, несмотря ни на что, беззаветно люблю и за которую, если придётся, готов сложить свою седеющую голову.
Возможно, этот мой труд и не вызовет интереса у читателей моих предыдущих книг, да и вряд ли он когда-либо будет издан. Но, по крайней мере, я оставляю за собой надежду на то, что хотя бы моим детям и внукам когда-нибудь захочется узнать, как жил, о чём мечтал и что сделал в своей жизни их отец и дед. И, может быть, прочтя когда-нибудь, каждый — в своё время, эту книжку, они не совершат тех ошибок, которые совершил в своей жизни я…»
Где-то на озере, в предутренней туманной мгле, под почти погасшим мерцанием Млечного Пути, негромко загудел лодочный мотор. На другом краю деревни, словно проснувшись от этого звука, заполошно закукарекал проспавший зорьку петух.
Пасмурный рассвет робко, словно с опаской, заглянул в окно дачного дома, чуть высветив дальний угол комнаты с темнеющей в нём печью из красного кирпича, неразобранную кровать возле неё, но так и не заметил за шторой окна, под иконой с едва теплившейся перед ней лампадкой, сидящего в кресле пожилого седого человека, неотрывного смотрящего в давно погасший монитор ноутбука…
А на старой планете, беспрерывно кружащейся среди бесчисленных звёзд мироздания, начинался новый день…